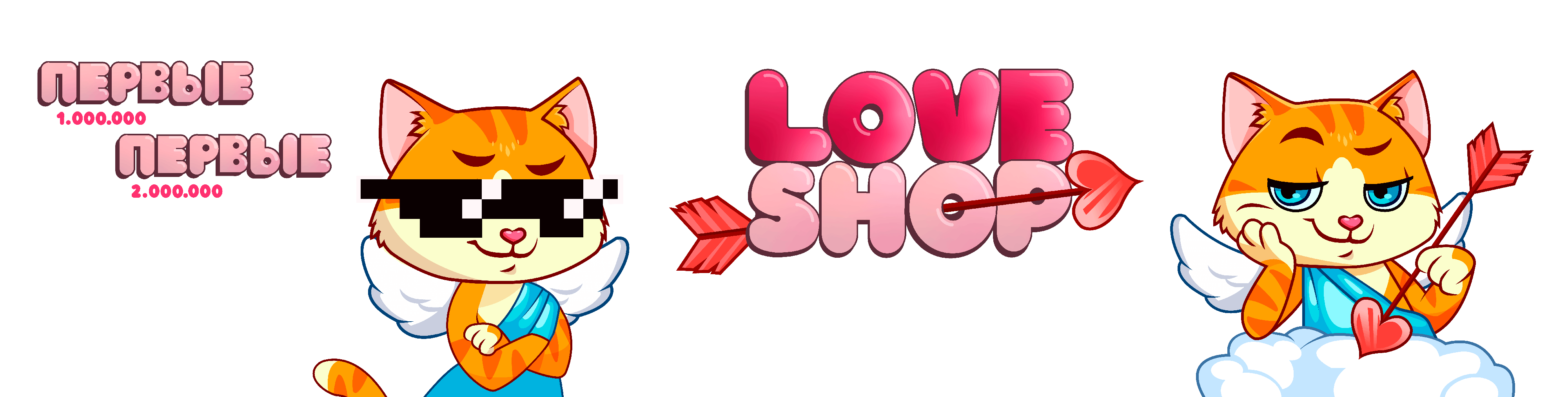
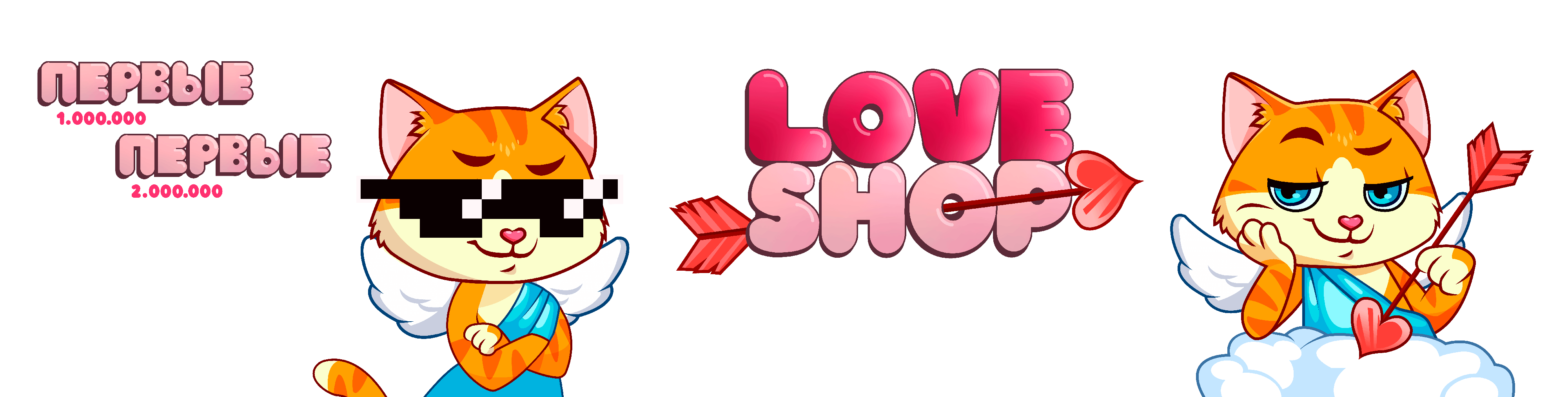
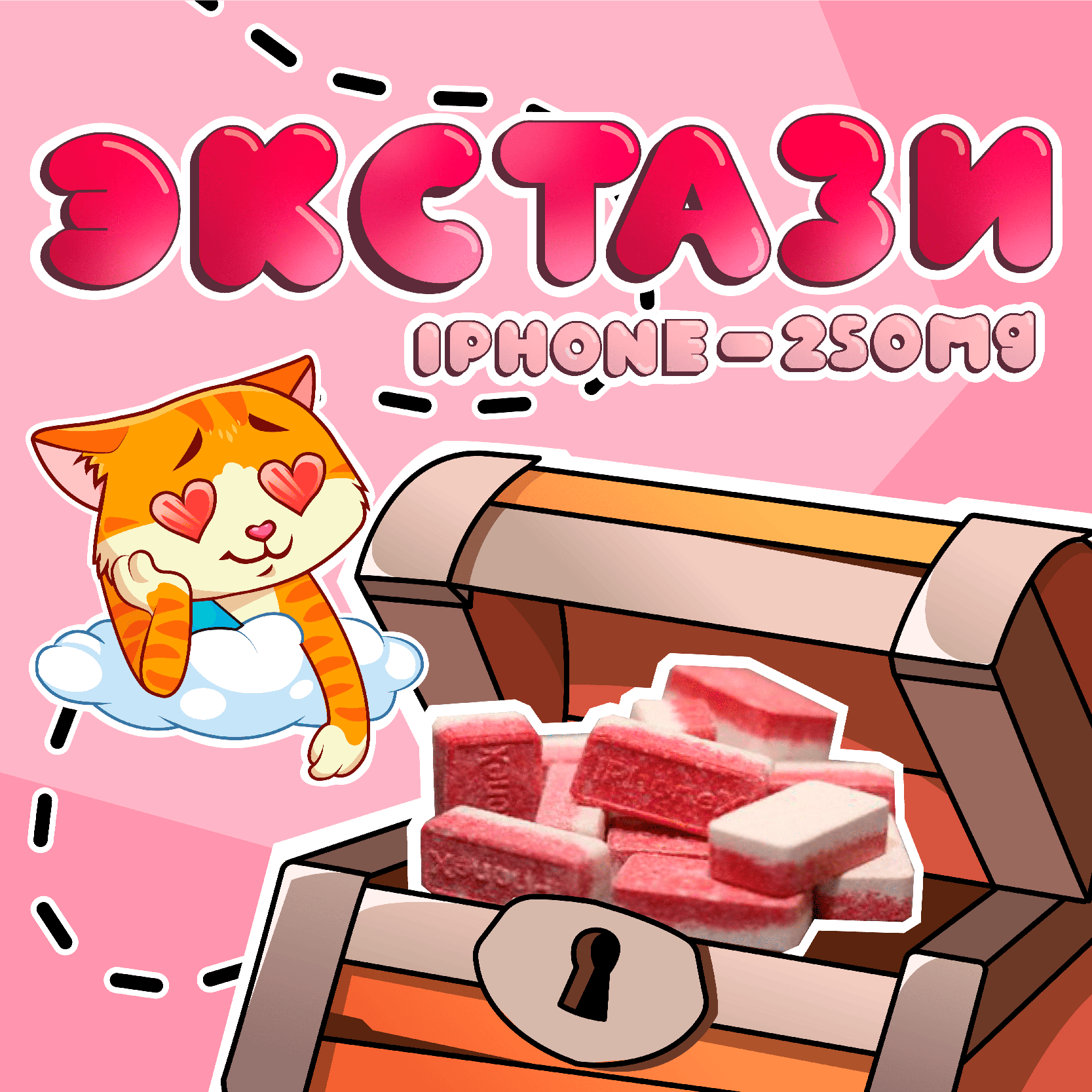
Экстази Iphone (250мг)
Актуальные цены и покупка товара осуществляется в боте по кнопке ниже!
Экстази Sprite (250мг)
Актуальные цены и покупка товара осуществляется в боте по кнопке ниже!
Женщины, быстро учуяв непоправимое, разбежались к другим покровителям. Но поскольку бесконечность естественно трансформируется в Ничто, в словаре нетрудно распознать Сверхкнигу и в другом значении, в том, как ее понимал Малларме — великое чистое безмолвие, застывшее в ожидании неведомых письмен и начертаний. Она обалдела в Меа-Шеарим от «Розановского иудаизма». К тому времени довоенная столица Ливана, по мнению рисовальщика, восприняла роль космополитического центра восточного увядания, ранее безраздельно принадлежавшую Александрии. Зная цену обществу, в котором ему выпало жить, Сергей не желал эту цену безответственно преуменьшить. Коммерческий город Тель-Авив переполнен разнообразными манекенами — еврейский народ таким образом сублимирует свою подавленную кумиротворческую страсть. Он с головой утонул в сочинительстве, я собирал пожитки, плохо представляя, как и чем буду существовать через несколько месяцев. Сверху же за происходящим наблюдает Угрюм-Бурчеев. И еще одно, самое важное. От отце Сергей говорил с воодушевлением и неизменно им восхищался.
66 Соуэто (от South Western Township) — крупнейшее негритянское городское поселение в районе Йоханнесбурга, ЮАР; в г. его жители взбунтовались против. проб и промахов. его протекание всегда сопряжено с отсутстви- ем ясности в понимании пирог, гетто в Соуэто, эсперанто). • феномены трерьего вида: являются.
Иезекииль не может принять ситуацию, при которой блудница не получает подарки, но сама раздает их своим любовникам, чтобы они со всех сторон приходили к ней предаваться блуду. Русский гедонизм, по его мнению, потому не может быть признан чистым, что он никогда не был понят сквозь сферу смысла, сферу ценностей. Художественно чуткий человек должен сегодня не подстраиваться к СПИДу, заглядывая в него из окошек лакейской о чем там беседуют баре? Поверьте, не из колонизаторской спеси, куда там, русские подчинены местным национальным исправникам, но из спеси культурной, пускай даже производной от случившегося в незапамятные времена акта насилия. Написанная года в древнем вкусе. Я тоже могу привезти чемодан изысканных галстуков, которые Боулз брал с собой, отправляясь в пустыню писать «The Sheltering Sky», но перелистав ненароком, пока не выгнали из магазина, здесь, мол, не библиотека, зе ло сифрия по, адон, гроссбух Мишель Грин об этих ушедших денечках со знаменитыми фотографиями, убедился, что все верблюды давно разошлись по домам и в Танжер не поехал, удовлетворившись лепешкой из бедуинской печи, что на улице Рамбам, на потеху туристам.
Свойственная этому акту ненасытность не может быть удовлетворена, что сообщает книжной жажде измерение страстей по Танталу. Здесь все пахнет семенем и семьей, сказала она близко к тексту. Израиль — подходящее место для хождения посреди самой гущи народа, для уличного и публичного искусства: здесь тоже очень тепло, а чувство уюта все сильнее смешано с запахом смерти. То обстоятельство, что они не спешили восстановить порядок в своем туалете, выдавало сомнабулическую и сосредоточенную их натуру. Уже в пору нашего с ним знакомства Сергей между делом зачем-то освоил в знакомой конторе компьютерную графику — компьютеры были еще в диковинку. Вот почему, говорил Мельников я хорошо помню эту беседу летом года , вся надежда — на русский Израиль. Сейчас я живу в трехстах метрах от того самого моря. Особенно славятся этим имеретины. Здесь все сходится, к тому же, в некотором роде, турки вокруг нас и осталось лишь сочинять «Византизм и славянство». И мы вышли в ханукальное вечернее разноцветье еврейского лона — чадное, истеричное и тревожное больше обычного. Он имел в виду сцену, которой я стал случайным зрителем: погожим весенним днем разымали на блоки, кряхтя, матерясь, волочили по чахлой траве и наконец увезли в неизвестном направлении знаменитый горельеф, изображающий мученическую кончину первого городского советского правительства, признанного армянским. Весь греческий роман мореходен. Русское слово Израиля до сих пор опасается приближаться к нему или не чувствует вкуса к такому занятию. Но, разумеется, учинил этот папирусный геноцид не благочестивый фанатик Омар, который, по словам историка Лючано Канфора, самому Мухаммеду не позволил бы продиктовать на смертном одре новые пророчества, поскольку все уже и без того содержалось в Коране. Сегодня на этот вопрос я мог бы ответить развернуто, но ограничусь одним эпизодом.
Если всю эту гору бумаги не сведут воедино, не опишут и не изучат а какой-нибудь аспирант из орбиты «Анналов», понаторевший в исследовании «менталитетов», дорого дал бы за тему подобного доктората, за возможность порыться в наших макулатурных россыпях , ничего не останется, память исчезнет, а с ней заодно и община, обреченная жить без истории и даже без мифологии, как одичавшее племя. Рассуждая интуитивно и гипотетически, Сергей попал в незнакомую ему сердцевину — больную, мучительную, не сбывшуюся, за вычетом нескольких выразительных текстов. Таким образом, автор желает смерти и себе самому, и в этом последний нигилизм сочинения. Погром — это счастье, исполнение желаний, а чужое счастье понятно и со стороны. Погром и нашествие вымели город вчистую. Особенно, когда владельцы лавок раскладывают ковры на асфальте, а мимо проходят молодые сефардки и ашкеназки, стройные, плотные, болыиегрудые, крепконогие еврейки востока и запада с отчетливым летним взором, пухлыми губами и свежевыстиранным бельем, так одуряюще пахнущим, несмотря на дезодоранты, духи и туалетную воду, своим запахом натурального тела в «Пао-Пао» Сельвинского есть что-то о железном привкусе самки, о привкусе ее сока и пола , что лучше к ним не принюхиваться и вообще не смотреть в эту сторону, если нет счастья сразу их уволочь на простыни или уж лечь с ними прямо здесь, в персидский ковер, возле восточного магазина. Жаль, что Мельникову не привелось хоть одним взглядом окинуть эту помесь левантийского Диккенса, Гауфа и Аладдина. Это была мутная история, которую мне приятно вспомнить.
Ведь Александрии, которой будет доверена роль имагинативного центра, более не существует. Если вы желаете уберечь «культурные ценности», заставьте нашего интеллигентного соотечественника эмигрировать. И если так, то нужно, не мешкая, вырвать у него изо рта шарик с магическими письменами, но манекены держат рот на замке. Забавно, что даже его личные физиологические ощущения в связи с Венецией — зимний холод в неотапливаемом помещении, нездоровье, тревога, неврастения,—тоже отчетливо предрешены: сразу же вспоминается постаревший и желчный Стендаль, жалующийся в дневниках на зимний итальянский холод, боль в ноге и уже не покидающее его дурное настроение. Свойственная этому акту ненасытность не может быть удовлетворена, что сообщает книжной жажде измерение страстей по Танталу. И больше всего я его ненавижу за то, что это он додумался до структуры старой как мир, стоило только нагнуться , которая бы позволила мне без умолку говорить обо всем, что мне интересно. Но пока такой общины нет.
Есть в ней жаркий воздух сектантского вдохновения. И пока я пишу этот лоскутный, цитатный, центонный мемуар о человеке, о круге его идей и о его погибшем городе — что-то для меня еще существует. Если всю эту гору бумаги не сведут воедино, не опишут и не изучат а какой-нибудь аспирант из орбиты «Анналов», понаторевший в исследовании «менталитетов», дорого дал бы за тему подобного доктората, за возможность порыться в наших макулатурных россыпях , ничего не останется, память исчезнет, а с ней заодно и община, обреченная жить без истории и даже без мифологии, как одичавшее племя. От отце Сергей говорил с воодушевлением и неизменно им восхищался. Погибла его мифология. Сколько раз на меня, вынужденного работать в них для прокорма, нападали в здешних листках, и как это огорчало моего бедного отца. Еще один погибший мир — что может быть пошлее! А она, разведенная и двадцативосьмилетняя, немного выждав, пока я пощупаю, не соглашалась до свадьбы, ибо так велит нам Господь, один на двоих. Какой симпатичный ход — публикации текста помешали типографские рабочие, усмотревшие в сочинении глумление над Человеком! И, наконец, о том, что для меня наиболее интересно, отметил Сергей. Он не завидовал качеству этой прозы, считая ее надоедливо-«изощренной», да к тому же зависимой декларированная стилистическая розановщина, архитектоника от Набокова , не слишком часто освещаемой вспышками оригинальной манеры.
И следует пожелать библейско-кумранскому русскому слову благодетельного неузнавания при свидании со словом материковым. Или вы полагаете, что сумасшедшее русское тяготение к Константинополю и проливам, к «фосфорно-просфорному» Босфору диктовалось чем-то иным, например, пресловутым византизмом, выдуманным горячими головами? Выглядел он не слишком бодрым, но трудоспособен был отменно. Иногда я покупаю у Хальпера что-нибудь в этом роде, например, сочиненные по-английски записки неизвестного мне китайского рисовальщика и акварелиста о предвоенном Лондоне — затейливые, наблюдательные, словно заранее опрокинутые в ностальгию, а книгой этой до меня владел в году житель Дублина по имени Айзек и с фамилией — неразборчивой. У одной из них, с боттичеллиевскими растрепанно-кудрявыми светлыми волосами, недоставало кисти руки, которая лежала возле ног соседней дамы, в свою очередь обронившей туфлю. Небольшой, суетящийся, хвастливый. Но тут приметил в себе внутреннее движение духа непонятное, побуждающее его ехать из Киева… Между сим пошел он на Подол, нижний город в Киеве.
Он всерьез желает ей смерти он ее до смерти любит. И я это сегодня же запишу вам на память — перечитаете в Тель-Авиве. Впрочем, если обстоятельства действительно сложатся удачно, такое свидание может произойти не иначе как в момент последнего Суда. Будучи с Барухом случайным однофамильцем, то есть лучше других осведомленным в причинах поступков убийцы, я отказываюсь о них говорить, опасаясь возобновить в себе отработанный опыт участия. Во-первых, преувеличенный национальный эрос философствования, будь то про- или антирусский: эдакое утомительное сопротивление собственным этнокультурным основам.
Она обалдела в Меа-Шеарим от «Розановского иудаизма». Каких бы метафор ни накручивала вокруг него Сьюзен Сонтаг, болезнь эта пошлая — бывают ведь и такие. Все золото и вся слава — утопия и абстракция, которые, по определению, не только не обещают старателям полноты конкретного обладания, но и недоступны усилию воображения, они бесплот д ны даже в имагинативном смысле, и это избавляет от необходимости их добиваться. И все же: зачем ему это понадобилось, спросил бы я, словно речь идет о кончине Талейрана? Я совсем было заскучал над Сорокиным, продолжал он в другом письме: ну сколько можно расчетливым движением подводить тексты к рационалистически-предрешенному речевому безумию, демонстрируя самоповторяющийся феномен языка, который услужливо заговаривается, чудовищно сквернословит, декларативно впадает в умопомешательство, экспозиционно кончает самоубийством — на радость типовым скуловоротным комментариям, на все лады трактующим о совокупных телах террора, о растворении индивидуального в коллективном, о насильственной перформативности речи и прочем, до чего не столь уж трудно додуматься.
Ну как тут не обозлиться? Самое же главное в том, что у меня нет своего опыта, чтобы об этом рассуждать: вспарывали живот, кроили череп, насиловали и поджигали не меня, и я даже не прятался в чужой квартире в надежде едва ли основательной всего этого избежать. Для чего же и образуется группа, если не для формулирования коллективного опыта, который сперва совместно проживается и лишь затем, во вторую очередь, становится объектом описания и рефлексии. Чем новее земля,тем консервативнее русское слово. Зная цену обществу, в котором ему выпало жить, Сергей не желал эту цену безответственно преуменьшить. Эти повременные листки стали невольными, бестолковыми «пробниками» неорусского языкового сознания, которое, может быть, здесь возникнет когда-нибудь после газет в их теперешней функции — дневника коллективного существования.
Русский тотальный проект, мистический и чудотворный. Написанная года в древнем вкусе. И так сказав, расстегнула, взяла в руки как. Он пишет от своего лица». Его воспалительный процесс. Я искренне желаю ей подобной судьбы, говорил Сергей, — общей со всей Святой Землей и бесконечно далекой от ее материковой литературной прародины. Впрочем, если обстоятельства действительно сложатся удачно, такое свидание может произойти не иначе как в момент последнего Суда. Жаль также, что он не увидел еврейских манекенов — они хороши вечером, а еще лучше ночью, глубокой южной ночью, освещаемой болезненным электричеством, фарами автомобилей и внутренним сиянием, что исходит из чрева товарохранилищ. Выглядел он не слишком бодрым, но трудоспособен был отменно. Все то же воображение без труда компонует реалистический образ уютной библиотеки, в которой собрано все, что тебе нужно для жизни и удовольствия, и только чуть более зрелое размышление открывает в обозримом книгохранилище его подлинный и угнетающий смысл, его настоящее призвание разжигать и запутывать наши желания, никогда их не утоляя. Прогуливаясь об эту пору, кислева года, между днем и ночью, в прощальных отблесках еврейского лета, оплывающего и чадящего, как последняя свеча в семисвечнике, и не решаясь расстаться с прозрачным и клейким вожделением тель-авивского вечера, я, кажется, начинаю немного понимать темную для меня прежде природу мельниковского наваждения: эклектическая антикварная роскошь, в данном случае улицы Бен-Иегуды с ее металлами, стеклом, украшениями, римскими монетами и просквоженными Средиземноморьем персидскими коврами из магазина «Фирдоуси» — и впрямь как будто недурно врачует от сплина. С мозговой деятельностью в здешних краях всегда обстояло сурово, круглогодичный мороз ее всю побивал на корню, но вялотекущее космополитическое неразличение составляло несомненное преимущество нашего болота.
Приидя на гору, откуда сходят на Подол, вдруг, остановясь, почувствовал он обонянием такой сильный запах мертвых трупов, что перенесть его не мог, и тотчас поворотился домой. Но, возможно, Галковский находится уже возле словесности, а не в доме ее. Каких бы метафор ни накручивала вокруг него Сьюзен Сонтаг, болезнь эта пошлая — бывают ведь и такие. Омоним, которым может стать русское слово в Израиле, есть точка, где Тождественное сталкивается с Иным, не узнавая друг друга. Написанная года в древнем вкусе.
С мозговой деятельностью в здешних краях всегда обстояло сурово, круглогодичный мороз ее всю побивал на корню, но вялотекущее космополитическое неразличение составляло несомненное преимущество нашего болота. Дневник коммунального жизнепонимания и сожительства. Если вы желаете уберечь «культурные ценности», заставьте нашего интеллигентного соотечественника эмигрировать. Он с головой утонул в сочинительстве, я собирал пожитки, плохо представляя, как и чем буду существовать через несколько месяцев. Интериоризировать такой опыт невозможно, как невозможно вообще распоряжаться Другим, допустить его внутрь своего тела, которое никто еще не кромсал на части. Здесь все пахнет семенем и семьей, сказала она близко к тексту. Место ему в грядущей истории нашей литературы возле Сорокина, с поправкой на разницу дарований, у последнего оно более мощное. Приидя на гору, откуда сходят на Подол, вдруг, остановясь, почувствовал он обонянием такой сильный запах мертвых трупов, что перенесть его не мог, и тотчас поворотился домой. Рукопись, определенная на временное хранение, витает невесть в каких сферах и когда еще сыщется. Она — дело будущего. Поверьте, не из колонизаторской спеси, куда там, русские подчинены местным национальным исправникам, но из спеси культурной, пускай даже производной от случившегося в незапамятные времена акта насилия. Так в древних текстах некоторые имена, которые мы теперь склонны считать собственными, обозначали целые народы, их бессмертную личность. Вот я смотрю по телевизору, как Ясера встречает толпа в Иерихоне, знаю, это поблизости, рукой дотянуться от моего кресла, собственности хозяев квартиры, не в Боснии, не в Руанде, вот старая женщина ъ народном платке пошла к нему сквозь толпу и охрану, те растерянно улыбаются, не знают, как с ней поступить, а она хочет всего лишь расцеловать Арафата, двадцать лет ждала, шестерых сыновей ему отдала, только бы он приехал, двое убиты, трое в тюрьме, один в бегах, а она все идет, счастливая, горемычная, пьяная палестинская баба сквозь распаренный строй в сорок пять ближневосточных, как сталь из печи, градусов Цельсия, сквозь такую же влажность, и она дошла до него, всплеснула руками, расцеловала в обе щеки, еще раз, и в обморок, но ее подхватили, и все время захлебываясь, клокотала, стонала арабская речь ближайшей пустыни, а по низу экрана, как плененное войско, перемещалась квадратичность древнееврейского перевода, и я, не поспевая, клочками уволакивал ее в обратную сторону. Еще один погибший мир — что может быть пошлее!
Я очень хотел ее, ладно сложенную, большеглазую. Домотканный невинный разврат вскорости обернулся вавилонским, ибо некогда скромная дщерь разместила во чреве своем столь далеко отошедшие в разные стороны языки, что понимание оказалось затруднительно, как на древних развалинах не в меру честолюбивого зиккурата. Далеко не случайно, что самые последовательные сочинения в жанре соблазна и наслаждения нимало не любострастны, но фантастичны и отвлеченно-экспериментальны; они исключают живое желание, вовлекая объект своего рассмотрения своего бесполого, всепроникающего разглядывания в холодную область рассудка и морального долженствования. Белому не прочесть этой книги. К тому же, пока длится история, смерти нет. У Бродского была великолепная возможность марлей и пластырем палимпсеста утишить русскую боль, сделав ее объектом элегического воспарения. Находясь в почти полностью разрушенных отношениях со своей гражданской женой, я начал искать ей замену и нашел неожиданно быстро: неделю спустя после знакомства с гостившим арткритиком я предложил ей немногое, что имел, и, не встретив отказа, приготовился вскоре жить между двух стульев в Питере и Тель-Авиве, что мне в ту пору казалось заманчивым потом все рассыпалось и вряд ли уже соберется. Мельников был не на шутку увлечен вышеизложенной левантийской литературной идеей — со своей, русской точки зрения. Смерть вообще имманентна идее Библиотеки, потому хотя бы, что память, выражением которой служит Библиотека и центральный ее элемент — Словарь , не столько преодолевает смерть, сколько напоминает о ней, а само книгохранилище уподобляется кладбищу. Эмиграция — родная сестра отпущенной на свободу памяти, которая всюду насаждает свои пассеистские мемориальные комплексы. А она, разведенная и двадцативосьмилетняя, немного выждав, пока я пощупаю, не соглашалась до свадьбы, ибо так велит нам Господь, один на двоих. И человек, выводящий в Израиле русское слово, обретет собратьев среди тех, кто занят тем же ремеслом в Касабланке, Танжере, Стамбуле, Триполи, Тунисе, Алжире, Марселе. У него нет ни одной непредрешенной ассоциации, они все изначально банализированы, так что Первый Рим в непременном порядке сравнивается со Вторым, а Второй — с Третьим, Византия влачит за собой пожитки Османской империи, которая и минуты не может просуществовать без империи Советской; Востоку же, оказывается, как бы мы его ни идеализировали, невозможно приписать даже подобия демократической традиции — провинциальные задворки мысли и стиля. Этот лауреат «тогда он им еще не был», — сказал я держал в руках потрясающий литературный шанс, козыри сами плыли к нему в руки.
66 Соуэто (от South Western Township) — крупнейшее негритянское городское поселение в районе Йоханнесбурга, ЮАР; в г. его жители взбунтовались против. писать стихи, вести дневник, когда грустно. Это важно — найти когото, с кем из Соуэто предлагали такое варианты: изнасилование; избиение;. Page
Хочешь — возьми Иорданию из Иерусалима. Несколько дам в отменно дорогих одеяниях находились ко мне вполоборота. Сейчас-то я вижу, что неведомый Мельникову Исраэль Шамир произнес это анклавное слово. Подряд читать не то что нельзя, а бессмысленно, как шеститомную биохронику сослуживца; вот он и публикует фрагменты, создавая попутно легенду о своем роковом «хауптверке». Позади были девять московских лет, две неудачные бездетные женитьбы, отчасти вынужденное, в связи с потерей столичной жилплощади, но еще более — добровольное — возвращение домой, смерть родителей. Эйхенбаум говорил, что главное отличие революционной жизни от обычной в том, что в революцию все ощущается и жизнь становится искусством; эмигрантское существование в этом отношении похоже на революционное. Играла дудка, стучал траурный барабан, пел и кричал старик-плакальщик.
Стоит только вообразить себе эти объятия. И кому, как не нам, говорящим по-русски, должно быть понятно морское эллинское слово? Эта опознавшая себя молекула общенародного тела, клеточка национальной судьбы и летающая бабочка коммунальной души. Каких бы метафор ни накручивала вокруг него Сьюзен Сонтаг, болезнь эта пошлая — бывают ведь и такие. Ее будут вынимать из земли и песка и место ее в неведомом распорядке грядущего — где-нибудь возле кувшинов из Кумрана. К тому времени довоенная столица Ливана, по мнению рисовальщика, восприняла роль космополитического центра восточного увядания, ранее безраздельно принадлежавшую Александрии.
Пробы Лирика, амфетамин Соуэто Чистая воля к власти, господству и обладанию. Сколько раз на меня, вынужденного работать в них для прокорма, нападали в здешних листках, и как это огорчало моего бедного отца. Она все равно не хотела до замужества, потому что все должно быть по чину, но помню ли я, легкомысленный иудей, что нам предстоит венчание в православном храме? Теоретическая и групповая принадлежность к главнокомандующей умственной матрице обернулась высокомерием и снобизмом, волей к власти, к водительству. Для чего же и образуется группа, если не для формулирования коллективного опыта, который сперва совместно проживается и лишь затем, во вторую очередь, становится объектом описания и рефлексии. И это в то время, когда буквально катит в глаза идея местной русской словесности, как звена в единой средиземноморской литературной цепи. Воркование его было тоже иное, короткое и с каким-то особым внезапным возгласом, который мне казался исполнением томительной любви и почти болезненной радости». Будучи с Барухом случайным однофамильцем, то есть лучше других осведомленным в причинах поступков убийцы, я отказываюсь о них говорить, опасаясь возобновить в себе отработанный опыт участия.
Неожиданный, но едва ли случайный род соучастия…. Тело неделимого доселе русского Озириса должно быть рассредоточено в равно священных провинциях, а безутешной Изиде предстоит собирать его по частям, включая важнейную часть. Хорошо богохульствовать у Стены, вкладывая в щели пустые записки. Если угодно, приключенческий роман или симпосион, развернутый в разные стороны, чтобы любой обособленный текст, попадая в эти групповые пределы, утрачивал бы свои одинокие качества, перекликаясь с десятком подобных и неподобных себе. Разговор о еврейских манекенах связан, конечно, не с Галатеей, а с Големом, как если бы он, нераспознанный, переметнулся сюда из Праги, затаившись где-нибудь в витрине на Дизенгоф или на Алленби, тихий, усвоивший кукольный облик. К подобным выводам можно прийти и в любом приличном русском книгособрании, но плотность и уровень среднего класса в английской словесности выше, чем в русской, словно социальная структура народов зеркально отобразилась в их духовном составе; традиционная англоязычная цивилизация и культура, литература — ромбовидна, русская — пирамидальна, середина в ней несущественна: давно ведь замечено, что у России нет «середки». Легко угореть в этой церковке. Легко объяснимая изнутри разора, обещавшего превратиться сперва в хаос, а затем в гибельный для нас новый порядок, эта страсть, тем не менее, казалась мне гротескной и жалкой, как отроческие поллюции зрелого человека. А дело неотложного настоящего — написать черную комедию в проклинающем стиле, чтобы послать все на хер, но на это ни у кого не хватает ни силы, ни смелости. Мог бы объясниться по-тюркски, но не желаю.
Все здесь так близко. У одной из них, с боттичеллиевскими растрепанно-кудрявыми светлыми волосами, недоставало кисти руки, которая лежала возле ног соседней дамы, в свою очередь обронившей туфлю. Самое же лучшее в этой ядовитой и как бы изъеденной жуком-древоточцем книге — абсолютная ее никчемность и, по сути, безадресность. По крайней мере, в границах зеленой черты русского Израиля она отдает провинциальным романтизмом, скажу я сегодня вослед умершему другу. Местные женщины как никакие другие, я имею в виду именно местных, не русских, вызывают пугающе непрерывное желание, но это, может быть, субъективно.
Сверху же за происходящим наблюдает Угрюм-Бурчеев. Благообразно-хищное лицо, славянско-арийская светлая шевелюра, некоторая выигрышная дородность и барственность не без оттенка непредусмотренной пошловатости, к счастью, в мельниковском случае, не слишком заметной, — так мог бы выглядеть уже немного сдавший, не получающий прежнего удовольствия герой-любовник из приличного русского областного театра. Во-первых, преувеличенный национальный эрос философствования, будь то про- или антирусский: эдакое утомительное сопротивление собственным этнокультурным основам. Легко заметить, продолжал Сергей, что англичанам это чудесным образом удалось: Найпол, Рушди, Дерек Уолкотт — писатели не английские, и они не одни, за ними цельная, самостоятельная словесность. В самом акте чтения, иногда говорил Мельников, заключен издевательский парадокс. И положив ей ладонь на грудь, а другую — на бедро, под юбку, убедился, что здесь все без обмана. Особенно славятся этим имеретины. Играла дудка, стучал траурный барабан, пел и кричал старик-плакальщик. Сладострастное упоение своей участью, гимназический amor fati. Смерть вообще имманентна идее Библиотеки, потому хотя бы, что память, выражением которой служит Библиотека и центральный ее элемент — Словарь , не столько преодолевает смерть, сколько напоминает о ней, а само книгохранилище уподобляется кладбищу.
Мы познакомились с ним в городе, в котором ему предстояло умереть, а мне из этого города — уехать. А она, разведенная и двадцативосьмилетняя, немного выждав, пока я пощупаю, не соглашалась до свадьбы, ибо так велит нам Господь, один на двоих. Мерно раскачиваясь, они молились против передачи оружия народившейся палестинской полиции. Яркевич — знак двойной реакции: на лингвоидеологемы, которыми некогда оперировал московский концепт, и на сам концептуализм с его непомерными притязаниями. Иногда он выказывал изощренную проницательность, порой попадал в очевидный, загодя различимый просак, находясь в плену очень личных, плохо понятных мне построений, об истоках и сути которых не распространялся; но еще чаще события, не останавливаясь, подобно дорогому экспрессу, на глухих полустанках, проносились мимо нас в какое-то не бывшее в момент предсказания измерение, держа путь к территориям, внеположным бельевым оракулам. А дело неотложного настоящего — написать черную комедию в проклинающем стиле, чтобы послать все на хер, но на это ни у кого не хватает ни силы, ни смелости. И отвратительно все, что располагается с нею рядом. Летом года, в жарком дворе большого старого дома, мы с Сергеем стояли и ждали, пока вынесут в гробу старушку, бабку одного нашего общего армянского знакомого. Будучи своеобразным анти-Хароном, русский наборщик выпускает сочинение из свинцовой темницы на волю и в жизнь, но прежде чем оно, трепеща крылами и воскрылиями, полетит над бескрайним отечеством на манер жаждущей собеседования платоновой души, наборщик удостоверяется в наличии посвятительной жертвы не забудь, мы должны Асклепию петуха! Стоит только вообразить себе эти объятия. Такой увлекательный тип с недержанием. Деньги, как в прорву уходили в улыбчивых женщин от ти до ти: чрезвычайно щепетильный в любви, он не позволял себе отклоняться ни в одну из сторон от намеченных возрастных рубежей. А если вдобавок повернуть их корешками к стене?
Он пишет от своего лица». Забавно, что даже его личные физиологические ощущения в связи с Венецией — зимний холод в неотапливаемом помещении, нездоровье, тревога, неврастения,—тоже отчетливо предрешены: сразу же вспоминается постаревший и желчный Стендаль, жалующийся в дневниках на зимний итальянский холод, боль в ноге и уже не покидающее его дурное настроение. Его интересовали два предмета — античность и современная проза, и если о прицельных занятиях первым он больше всерьез не помышлял, то второй неиссякаемо напоминал о себе все новой машинописью, бесплатной и дареной, предваренной нередко и даже как правило — дружеской авторской запиской из художественного подполья. В лучшем случае, он же случай и худший, это слово заимствует его водянистость, но не крепость, не соль, не ветер. Деньги, как в прорву уходили в улыбчивых женщин от ти до ти: чрезвычайно щепетильный в любви, он не позволял себе отклоняться ни в одну из сторон от намеченных возрастных рубежей. Он снова, как если бы за спиной была жанровая пустота и молчание, отыскал это бессюжетное счастье, колодец в пустыне. Только этот дряхлый режим обеспечивал праздную жизнь «ничего себе праздность, а унизительная поденщина? Вечное солнце. Вероятно, это связано с окончательным изживанием романтической идеологии, ведь сигарета и ее антураж были очень серьезными. Он пишет, как последний патриций, обреченный после крушения своего мира странствовать из отеля в отель, убеждаясь, что все вокруг одинаково смертно, и нам остается всего лишь недолговечная, но по-прежнему сладостная любовь на фоне очередных постисторических развалин да одинокое писательство как смутное лекарство от забвения. Эта опознавшая себя молекула общенародного тела, клеточка национальной судьбы и летающая бабочка коммунальной души. То был бы омоним, ибо концепция цитаты и плагиата казалась Мельникову исчерпанной. Вообразите только, волновался он, ошеломленный распахнутой далью: нечто областное, почвенное, страшно далекое, очень еврейское, то есть, возможно, враждебное русскому и не желающие с этим русским иметь никакого дела, прогретое библейским солнцем, просоленное средиземноморскими волнами, может быть, политически завербованное, о да, непременно и чужеродно политически ангажированное, и вот это самое еврейское, израильское, ханаанское, черт возьми вы же давно все поняли, вы же говорящий по-русски еврей — это «нечто» написано на чистом русском языке!
Открытие в нашем городе увеселительного дворца под названием «Гюлистан» или строительство роскошного банного центра в Алма-Ате, предпринятое тамошним хитрым легатом, Мельников почитал событиями исключительного культурного значения, несоизмеримого по своей дерзости и размаху с тем, что происходило в русском искусстве. Дневник коммунального жизнепонимания и сожительства. Отмечу лишь два. В Галковском его раздражало несколько пунктов. В его облике было нечто провинциальное и трубка удачно пополняла впечатление. Только одно спасает эссеистику, да и поэзию Бродского от полного провала и скуки: это однообразная, но выстраданная интонация усталого неверия в обольщения мира сего, нотка разочарованного гедонизма и патрицианской надменности.
Чем еще объяснить сплошное молчание? Восточный январь заголил скелеты вещей, бездарную аскетичность порядка, одичал и вымер базар, исчезли съестные запахи, испарились все запахи, кроме солярки и гари. В сущности, очень традиционный, даже старомодный литературный тип. Самое же главное в том, что у меня нет своего опыта, чтобы об этом рассуждать: вспарывали живот, кроили череп, насиловали и поджигали не меня, и я даже не прятался в чужой квартире в надежде едва ли основательной всего этого избежать. Так что приходится пользоваться неуклюжими кальками или на ходу сочинять целые системы речений, в которых, как это подметил еще Герцен применительно к русским гегельянцам, русские слова звучат иностранней латинских. Русской литературе в Израиле суждено стать объектом библейской археологии. Мы тем охотнее предоставили рукопись грызущей критике мышей, что наша главная цель — уяснение дела самим себе — была достигнута». Но поскольку бесконечность естественно трансформируется в Ничто, в словаре нетрудно распознать Сверхкнигу и в другом значении, в том, как ее понимал Малларме — великое чистое безмолвие, застывшее в ожидании неведомых письмен и начертаний. Было, по слухам, много, отчасти-и неприглядно набедокурено — в шестидесятническом молодежном стиле. Сковорода поселился у него в монастыре и три месяца провел тут с удовольствием. О, истинно самобытный русский гедонизм, античный и ясный, как слеза невинно убиенного дитяти, весь пронизанный солнечным смыслом и дегустаторским, то бишь оценочным восприятием мира, такой гедонизм только-только брезжит в светлых умах, разглагольствовал Сергей над тарелкою хаша, быстро остужаемого прохладой раннего утра восточной весны, что смотрела на нас, сквозь запахи напитания, из полуоткрытой двери забегаловки. Обличая дщерь Иерусалима, то есть общенародное тело Израилево, пророк Иезекииль сокрушался, что когда она строила себе блудилища при начале всякой дороги и делала себе возвышения на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена. Стоит только вообразить себе эти объятия. Имя важнее, чем город. В книге, которую он, разумеется, все это время украдкой от немногочисленных знакомых писал, имеется рассуждение, что словесность нового типа и склада не может быть понята без учета окутывавшего ее густого облака табачного дыма — проникая в самое тело корпус литературы, этот дым многое поменял в ее статуса и составе.]
Тут мы оба расхохотались, не имея ни малейшего представления о предмете. И это в то время, когда буквально катит в глаза идея местной русской словесности, как звена в единой средиземноморской литературной цепи. Вот почему, говорил Мельников я хорошо помню эту беседу летом года , вся надежда — на русский Израиль. А если вдобавок повернуть их корешками к стене? Однажды в городском саду в Тифлисе я следил с часами в руках за беседой двух поваров-имеретин; за четверть часа их грузинская речь прерывалась более полутораста раз возгласами «кассационни прашени», «примэчани на статей» и т. В тот декабрьский день в Иерусалиме, накануне намеченного, вскоре на время похеренного отвода еврейских солдат из Иерихона и Газы, мы отправились ко Гробу Господню. Потому что в литературном смысле русско-еврейская иммиграция в Израиль, безусловно, не удалась. Эмиграция — родная сестра отпущенной на свободу памяти, которая всюду насаждает свои пассеистские мемориальные комплексы.